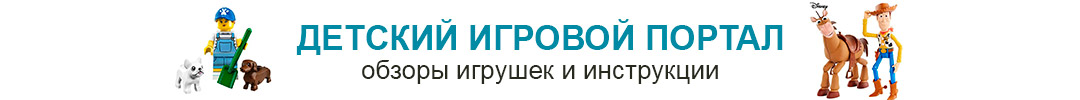Евгений евтушенко баллада о русской игрушке
Обновлено: 30.04.2024
Мы сто белух уже забили,
цивилизацию забыли,
махрою легкие сожгли,
но, порт завидев,- грудь навыкат! —
друг другу начали мы выкать
и с благородной целью выпить
со шхуны в Амдерме сошли.
Мы шли по Амдерме, как боги,
слегка вразвалку, руки в боки,
и наши бороды и баки
несли направленно сквозь порт;
и нас девчонки и салаги,
а также местные собаки
сопровождали, как эскорт.
Но, омрачая всю планету,
висело в лавках: «Спирту нету».
И, как на немощный компот,
мы на «игристое донское»
глядели с болью и тоскою
и понимали — не возьмёт.
Ну кто наш спирт и водку выпил?
И пьют же люди — просто гибель…
Но тощий, будто бы моща,
Морковский Петька из Одессы,
как и всегда, куда-то делся,
сказав таинственное: «Ща!»
А вскоре прибыл с многозвонным
огромным ящиком картонным,
уже чуть-чуть навеселе:
и звон из ящика был сладок,
и стало ясно: есть! порядок!
И подтвердил Морковский: «Е!»
Мы размахались, как хотели,-
зафрахтовали «люкс» в отеле,
уселись в робах на постели:
бечёвки с ящика слетели,
и в блеске сомкнутых колонн
пузато, грозно и уютно,
гигиеничный абсолютно
предстал тройной одеколон.
И встал, стакан подняв, Морковский,
одернул свой бушлат матросский,
сказал: «Хочу произнести!»
«Произноси!» — все загудели,
но только прежде захотели
хотя б глоток произвести.
Сказал Морковский: «Ладно,- дернём!
Одеколон, сказал мне доктор,
предохраняет от морщин.
Пусть нас осудят — мы плевали!
Мы вина всякие пивали.
Когда в Германии бывали,
то «мозельвейном» заливали
мы радиаторы машин.
А кто мы есть? Морские волки!
Нас давит лед, и хлещут волны,
но мы сквозь льдины напролом,
жлобам и жабам вставим клизму,
плывем назло имперьялизму?!»
И поддержали все: «Плывём!»
«И нам не треба ширпотреба,
нам треба ветра, треба неба!
Братишки, слухайте сюда:
у нас в душе, як на сберкнижке,
есть море, мама и братишки,
все остальное — лабуда!»
Так над землею-великаном
стоял Морковский со стаканом,
в котором пенились моря.
Отметил кэп: «Всё по-советски…»
И только боцман всхлипнул детски:
«А моя мамка — померла…»
И мы заплакали навзрыдно,
совсем легко, совсем нестыдно,
как будто в собственной семье,
гормя-горючими слезами
сперва по боцмановой маме,
а после просто по себе.
Уже висело над аптекой
«Тройного нету!» с грустью некой,
а восемь нас, волков морских,
рыдали,- аж на всю Россию!
И мы, рыдая, так разили,
как восемь парикмахерских.
Смывали слезы, словно шквалы,
всех ложных ценностей навалы,
все надувные имена,
и оставалось в нас, притихших,
лишь море, мама и братишки
(пусть даже мамка померла).
Я плакал — как освобождался,
я плакал, будто вновь рождался,
себе — иному — не чета,
и перед богом и собою,
как слёзы пьяных зверобоев,
была душа моя чиста.
Но однажды
Как будто все колчаны без стрел
Удалившийся в юрту
Хан Батый захмурел.
От бараньего сала
От ласняшихся жен
Что-то в нем угасало
Это чувствовал он.
И со взглядом потухшим
Он сидел одинок
На сафьянных подушках
Сжавшись, будто хорек
Хан сопел исступленно,
Скукотою томясь.
И бродяжку с торбенкой
Ввел угодник — толмачь.
В горсть набравши урюка
Колыхнув животом.
Кто такой ?-хан угрюмо
Ткнул в бродяжку перстом.
Тот вздохнул: — Божья матерь,
То Батый, то князья,
Дел игрушечных мастер
Ванька Сидоров я.
Из холстин дыроватых
С той торбенки своей
Стал вынать деревянных
Медведей и курей
И в руках баловался
Потешатель сердец
С шебутной балалайкой
Скоморох — дергунец
Но в игрушки вникая
Умудренный как змий
На матрешек вниманья
Обратил хан Батый
И с тоской первобытной
Хан подумал в тот миг
Скольких здесь перебил он
А постичь не постиг
В мужичках скоморошных,
Простоватых на вид,
Как матрешка в матрешке
Тайна в тайне сидит.
Озираясь трусливо
Буркнул хан толмачу
— Все игрушки тоскливы,
Посмешнее хочу.
Хан добавил икнувши:
— Перстень дам и коня,
Но чтоб эта игрушка,
Просветлила меня.
Думал Ванька про волю
Про судьбу про свою
И кивнул головою:
— Сочиню, просветлю.
Шмыгал носом он грустно,
Но явился в свой срок.
— Сочинил я игрушку,
Ванькой-встанькой нарек.
На кошме некичливо,
Стал простетский, не злой.
Но дразняще качливый
Мужичок удалой.
Хан прижал его пальцем
И ладонью помог
Ванька-встанька попался,
Ванька-встанька прилег.
Хан свой палец одернул
Но силен хоть и мал
Ванька-встанька задорно
Снова на ноги встал.
Хан игрушку с размаха
Вмял в кошму сапогов
И знобея от страха
Заклинал шепотком.
Хан сапог отодвинул,
Но держась за бока
Ванька-встанька вдруг
вынырнул из под носка
Хана страхом шатало
И велел он скорей
От Руси, от шайтана
Повернуть всех коней
И теперь уж отмаясь,
Положенный вповал
Ванька Сидоров – мастер
У дороги лежал.
Он лежал, отсыпался
Руки белые врозь
Василек между пальцев
Натрудившихся рос.
А в пылище прогорклой
Так же мал да удал
С головенкою гордой
Ванька-встанька стоял
Из под стольких кибиток
Из под стольких копыт
Он вставал не убитый,
только временно сбит.
Опустились туманы
На лугах заливных
И ушли басурманы
Будто не было их.
Ну а Ванька остался
Как остался народ
И душа Ваньки-встаньки
В каждом русском живет
Мы народ Ванек-встанек
Нас не бог уберег
Нас давили, топтали
Столько разных сапог
Они знали: Мы Ваньки
Нас хотели покласть,
Но о том что мы Встаньки,
Забывали, платясь.
Мы народ Ванек-встанек
Мы встаем, так в серьез
Мы от бед не устанем
Не поляжем от слез
И смеется не вмятый
Не затоптанный в грязь
Мужичок хитроватый
Чуть по-ка-чи-ва-ясь.
Но однажды
Как будто все колчаны без стрел
Удалившийся в юрту
Хан Батый захмурел.
От бараньего сала
От ласняшихся жен
Что-то в нем угасало
Это чувствовал он.
И со взглядом потухшим
Он сидел одинок
На сафьянных подушках
Сжавшись, будто хорек
Хан сопел исступленно,
Скукотою томясь.
И бродяжку с торбенкой
Ввел угодник — толмачь.
В горсть набравши урюка
Колыхнув животом.
Кто такой ?-хан угрюмо
Ткнул в бродяжку перстом.
Тот вздохнул: — Божья матерь,
То Батый, то князья,
Дел игрушечных мастер
Ванька Сидоров я.
Из холстин дыроватых
С той торбенки своей
Стал вынать деревянных
Медведей и курей
И в руках баловался
Потешатель сердец
С шебутной балалайкой
Скоморох — дергунец
Но в игрушки вникая
Умудренный как змий
На матрешек вниманья
Обратил хан Батый
И с тоской первобытной
Хан подумал в тот миг
Скольких здесь перебил он
А постичь не постиг
В мужичках скоморошных,
Простоватых на вид,
Как матрешка в матрешке
Тайна в тайне сидит.
Озираясь трусливо
Буркнул хан толмачу
— Все игрушки тоскливы,
Посмешнее хочу.
Хан добавил икнувши:
— Перстень дам и коня,
Но чтоб эта игрушка,
Просветлила меня.
Думал Ванька про волю
Про судьбу про свою
И кивнул головою:
— Сочиню, просветлю.
Шмыгал носом он грустно,
Но явился в свой срок.
— Сочинил я игрушку,
Ванькой-встанькой нарек.
На кошме некичливо,
Стал простетский, не злой.
Но дразняще качливый
Мужичок удалой.
Хан прижал его пальцем
И ладонью помог
Ванька-встанька попался,
Ванька-встанька прилег.
Хан свой палец одернул
Но силен хоть и мал
Ванька-встанька задорно
Снова на ноги встал.
Хан игрушку с размаха
Вмял в кошму сапогов
И знобея от страха
Заклинал шепотком.
Хан сапог отодвинул,
Но держась за бока
Ванька-встанька вдруг
вынырнул из под носка
Хана страхом шатало
И велел он скорей
От Руси, от шайтана
Повернуть всех коней
И теперь уж отмаясь,
Положенный вповал
Ванька Сидоров – мастер
У дороги лежал.
Он лежал, отсыпался
Руки белые врозь
Василек между пальцев
Натрудившихся рос.
А в пылище прогорклой
Так же мал да удал
С головенкою гордой
Ванька-встанька стоял
Из под стольких кибиток
Из под стольких копыт
Он вставал не убитый,
только временно сбит.
Опустились туманы
На лугах заливных
И ушли басурманы
Будто не было их.
Ну а Ванька остался
Как остался народ
И душа Ваньки-встаньки
В каждом русском живет
Мы народ Ванек-встанек
Нас не бог уберег
Нас давили, топтали
Столько разных сапог
Они знали: Мы Ваньки
Нас хотели покласть,
Но о том что мы Встаньки,
Забывали, платясь.
Мы народ Ванек-встанек
Мы встаем, так в серьез
Мы от бед не устанем
Не поляжем от слез
И смеется не вмятый
Не затоптанный в грязь
Мужичок хитроватый
Чуть по-ка-чи-ва-ясь.
И донесла разведка немцам так:
«Захвачен укреплённый пункт у склона
солдатами штрафного батальона,
а драться с ними — это не пустяк».
Но обер-лейтенант был новичок —
уж слишком был напыщен и научен,
уж слишком пропагандою накручен,
и он последней фразы не учёл.
Закон формальной логики ему
внушил, что там, в сердцах на правосудье,
обиженные Родиною люди,
и вряд ли патриоты потому.
Распорядился рупор приволочь
и к рупору пьянчугу-полицая,
и тот, согретый шнапсом, восклицая,
ораторствовал пламенно всю ночь.
Он возвещал солдатам, как набат,
всё то, что обер тщательно преподал:
о всех несправедливостях преподлых,
которые загнали их в штрафбат.
Мол, глупо, парни, воевать за то,
что вас же унижает и позорит,
а здесь вам снова стать людьми позволят,
да и дадут в награду кое-что.
Сам полицай, по правде говоря,
в успех не верил, жалок и надрывен.
Он думал: обер, обер, ты наивен.
Не знаешь русских ты. Всё это зря.
А как воспринимали штрафники
тот глас? Как отдых после перестрелки.
Махрой дымили, штопали шинелки
и чистили затворы и штыки.
Они попали кто за что в штрафбат:
кто за проступок тяжкий, кто за мелочь,
и, как везде, с достатком тут имелось
таких, кто был не слишком виноват.
Был обер прав: у них, у штрафников,
у стреляных парней, видавших виды,
конечно, были разные обиды.
А у кого их нет? У чурбаков.
Но русские среди трудов и битв,
хотя порой в отчаянье немеют,
обиды на Россию не имеют.
Она для них превыше всех обид.
Нам на неё обидеться грешно,
как будто бы обидеться на Волгу,
на белые берёзоньки, на водку,
которой утешаться суждено.
На чёрный хлеб, который вечно свят,
на «Догорай, гори, моя лучина…»,
на всех, что спят в земле неизлечимо,
на матерей, которые не спят.
Ошибся обер, и, пойдя в штыки,
едва рассвет забрезжил бледновато,
за Родину, как гвардии солдаты,
безмолвно умирали штрафники.
Баллада, ты длинна, но коротка,
и не могу закончить я балладу.
Ведь столько раз солдатскую баланду
хлебал я из штрафного котелка.
К чему всё это ворошить? Зола.
Но я, солдат штрафного батальона,
порой грустил, и горько, потаённо
меня обида по сердцу скребла.
Но я себе шептал: «Я не убит,
и как бы рупора ни голосили,
не буду я в обиде на Россию —
она превыше всех моих обид.
И виноват ли я, не виноват, —
в атаку тело бросив окрылённо,
умру, солдат штрафного батальона,
за Родину как гвардии солдат».
По разграбленным сёлам
шла Орда на рысях,
приторочивши к сёдлам
русокосый ясак.
Как под тёмной водою
молодая ветла,
Русь была под Ордою,
Русь почти не была.
Но однажды , – как будто
все колчаны без стрел, –
удалившийся в юрту
хан Батый захмурел.
От бараньего сала,
от лоснящихся жён
что-то в нём угасало –
это чувствовал он.
И со взглядом потухшим
хан сидел, одинок,
на сафьянных подушках,
сжавшись, будто хорёк.
Хан сопел, иступлённой
скукотою томясь,
и бродяжку с торбёнкой
ввёл угодник толмач.
В горсть набравши урюка,
колыхнув животом,
"Кто такой?" – хан угрюмо
ткнул в бродяжку перстом.
Тот вздохнул ("Божья матерь,
то Батый, то князья. "):
"Дел игрушечных мастер
Ванька Сидоров я".
Из холстин дыроватых
в той торбёнке своей
стал вынать деревянных
медведей и курей.
И в руках баловался
потешатель сердец –
с шебутной балалайкой
скоморох-дергунец.
Но, в игрушки вникая,
умудрённый, как змий,
на матрёшек вниманье
обратил хан Батый.
И с тоской первобытной
хан подумал в тот миг,
скольких здесь перебил он,
а постичь не постиг.
В мужичках скоморошных,
простоватых на вид,
как матрёшка в матрёшке,
тайна в тайне сидит.
Озираясь трусливо,
буркнул хан толмачу:
"Все игрушки тоскливы.
Посмешнее хочу.
Пусть он, рваная нечисть,
этой ночью не спит
и особое нечто
для меня сочинит".
Хан добавил, икнувши:
"Перстень дам и коня,
но чтоб эта игрушка
просветлила меня!"
Думал Ванька про волю,
про судьбу про свою
и кивнул головою:
"Сочиню. Просветлю".
Шмыгал носом он грустно,
но явился в свой срок:
"Сочинил я игрушку.
Ванькой-встанькой нарёк".
На кошме не кичливо
встал простецкий, не злой,
но дразняще качливый
мужичок удалой.
Хан прижал его пальцем
и ладонью помог.
Ванька-встанька попался,
Ванька-встанька прилёг.
Хан свой палец отдёрнул.
Но силён, хоть и мал,
Ванька-встанька задорно
снова на ноги встал.
Хан игрушку с размаха
вмял в кошму сапогом
и, злобея от страха,
заклинал шепотком.
Хан сапог отодвинул,
Но, держась за бока,
Ванька-встанька вдруг вынырнул
из-под носка!
Хан попятился грузно,
Русь и русских кляня:
"Да, уж эта игрушка
просветлила меня. "
Хана страхом шатало,
и велел он скорей
от Руси – от шайтана –
повернуть всех коней.
И теперь уж отмаясь,
положённый вповал,
Ванька Сидоров мастер
у дороги лежал.
Он лежал, отсыпался,
руки белые врозь,
василёк между пальцев
натрудившихся рос.
А в пылище прогорклой,
так же мал да удал,
с головёнкою гордой
Ванька-встанька стоял.
Из-под стольких кибиток,
из-под стольких копыт
он вставал неубитый,
только временно сбит.
Опустились туманы
на лугах заливных,
и ушли басурманы,
будто не было их.
Ну, а Ванька остался,
как остался народ.
И душа Ваньки-встаньки
в каждом русском живёт.
Мы – народ ванек-встанек.
нас не Бог уберёг!
Нас давили, пластали
столько всяких сапог!
Они знали, мы – ваньки,
нас хотели покласть,
а о том, что мы встаньки,
забывали, платясь.
Мы – народ ванек-встанек.
Мы встаём – так всерьёз.
Мы от бед не устанем,
не поляжем от слёз.
И смеётся не вмятый,
не затоптанный в грязь
мужичок хитроватый,
чуть пока-чи-ва-ясь.
Любопытно, но об этом стихотворении Евтушенко я узнала благодаря поэту Владимиру Корнилову и его посвящению этому конкретному произведению Евтушенко:
Был у Евтушенко
Стих — не самый лучший,
Но ему оценку
Дал мой личный случай.
На большие сроки
Изгнан из шеренги,
Полюбил я строки
Жени Евтушенко.
Описал он просто,
Прямо, без утайки
Лихость, непокорство,
Стойкость ваньки-встаньки.
Жизнь была не нянька,
А скорей — лишенка,
Но грел душу ванька-
Встанька Евтушенко.
Потому что, грустный
И не выйдя рожей,
С этою игрушкой
Был я чем-то схожий.
Читайте также: